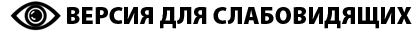История института >> Р.Л. Добрушин >> Ю.Д. Апресян
Памяти Роланда Львовича Добpушина
Бывает так, что
много знаешь о человеке и мало – его самого. Бывает и наоборот – о
человеке знаешь очень мало, но то, каков он на самом деле,
представляешь очень хорошо. Я мало встречался с Роландом Львовичем
– наши миры ни профессионально, ни по дружеским связям не
пересекались. Поэтому я почти не располагаю теми драгоценными
деталями – воспоминаниями о жестах, словах, поступках, оценках, –
из которых складывается живой и полнокровный образ человека. Но во
время наших редких, коротких и почти всегда деловых встреч у меня
неизменно возникало ощущение, что нас очень многое связывает. Мы
одинаково видели мир, и у нас было одинаковое понимание того, как
должен действовать в нем человек, считающий себя порядочным и
разумным. И хотя образ Роланда Львовича, который живет у меня в
памяти, вырос не из знания фактов его жизни и деятельности, а
почти исключительно из интерпретаций, мне кажется, что он
соответствует оригиналу. Я знаю (в изустной передаче) следующее
замечательное высказывание Г. А. Маргулиса о Роландае Львовичае:
"Он – хороший начальник, потому что умеет принимать правильное
решение, не вникая в существо дела". Заключенную в нем мысль можно
обобщить: правда возникает не из знания фактов, она всегда
дедуктивна. Именно эта мысль и дает мне смелость предложить
несколько заметок о моих встречах с Роландом Львовичем, которые
(заметки) я и сам ощущаю как очень разрозненные.
Первый раз я увидел его в начале 1957 года на филфаке МГУ, где
обсуждалась незадолго до этого вышедшая книга О. С. Ахмановой.
Главными и безусловно самыми яркими ораторами были два молодых
человека моего возраста, ратовавших за математизацию лингвистики.
Это были Р. Л. Добрушин и В. А. Успенский. Аргументация была
обычной для тех лет, но в их выступлениях было столько огня,
блеска, ума, гипнотической силы, что не поддаться этому было
невозможно. С тех пор я стал регулярно ходить на семинары, где
обсуждались вопросы математизации лингвистики, и читать литературу
на эту тему. Я помню две работы Роланда Львовича по математической
лингвистике, появившиеся на рубеже 50-60 годов. Поскольку моей
целью является не апологетика, я должен честно сказать, что одна
из них оказалась чересчур романтической. В ней говорилось, что
текст на естественном языке можно моделировать, подсчитывая
условные вероятности совместной встречаемости цепочек букв (куда
входил и пробел), причем текст будет моделироваться тем успешнее,
чем более длинные цепочки будут рассматриваться. Самым
запоминающимся приближением к русскому слову, которое удалось
получить в эксперименте самому Роланда Львовича, было смешное, но
милое слово "дурноскаки". Зато вторая работа была исключительно
идейной. Она была посвящена вопросам формального представления
синтаксических структур предложений, которые предлагалось
изображать с помощью деревьев зависимостей. Сейчас трудно
установить, кому принадлежит заслуга внедрения в сознание
лингвистов этой простой и естественной мысли. Сами по себе такие
деревья были придуманы еще в 20-х годах, т. е. задолго до
математической лингвистики, причем сразу двумя людьми – Л. Теньером и А. М. Пешковским. С этим методом были, конечно, знакомы
и наши первые специалисты по машинному переводу – И. А. Мельчук и
О. С. Кулагина. Но инерция традиционных синтаксических учений, не
знавших никаких деревьев зависимостей, была настолько мощной, что
для ее преодоления нужны были специальные усилия. В этом общем
движении работа Роланда Львовича, безусловно, сыграла свою роль.
Ему не в меньшей мере, чем другим первопроходцам, мы обязаны
фундаментальной идеей формального аппарата, которым пользуемся до
сих пор.
Мы познакомились в начале 60-х годов. Он всегда был немного
неуклюжим, физически неловким, абсолютно антисветским человеком,
со святым невниманием к тому, как он выглядит и какое впечатление
на окружающих производит. В его манерах и поведении было какое-то
детское простодушие. Покойная Т. И. Коровина рассказывала мне, как
на одной лыжной прогулке он оказался в поросшем кустами овраге, из
которого, по-видимому, не мог выбраться. И вдруг она услышала его
голос: "Таня, я потерялся". Он искренне не замечал, что его
огромная и буйная шевелюра нуждается в стрижке, брюки пузырятся на
коленях, а края рубашки местами выбиваются из-за пояса. Его взгляд
был погружен в себя или в глаза собеседника, и казалось, что ничто
другое его не занимает. Внешне он мог показаться блаженным,
небожителем, которому нет дела до земных забот и который не имеет
о них никакого представления. Но так было только на первый взгляд,
до его первых слов. Как только Роланд Львович заговаривал,
становилось ясно, с каким острым, цепким, все замечающим умом
имеешь дело. Это ощущалось в самом стиле его формулировок. Они
ухватывали существо дела, были ярки без всякого налета словесной
игры и сразу отливались в чеканной, почти афористической форме. Он
не говорил ничего лишнего. Как сказал о В. Хлебникове один
современник, "он был абсолютно интересен". Поэтому иногда с ним
становилось немного страшно разговаривать. Он смотрел на
собеседника с благожелательным ожиданием, и хотелось оказаться на
уровне этих ожиданий. Е. В. Падучева признавалась мне, что в
разговоре с ним она всегда боялась сказать что-нибудь, что
покажется ему неинтересным.
В его взгляде на мир была еще одна замечательная черта – он был
убежденным оптимистом. Отчетливо понимая, в какой нравственной,
экологической, экономической бездне оказалась наша страна, он
считал, что она необратимо встала на путь реформ, каким бы
причудливым этот путь ни казался на первый взгляд. Это был один из
немногих вопросов, по которому наши оценки расходились. На эти
темы со мной часто разговаривала Н. Д. Введенская, и получив от
меня очередную порцию того, что я считал трезвым, хотя и
безрадостным взглядом на положение дел, она, по ее собственным
словам, немедленно шла к Роланду Львовичу за очередным зарядом
бодрости и всегда получала его. Он умел быть убедительным. Я
думаю, что одним из источников этого оптимизма была редкая в наши
дни биологическая сила его личности.
Я, конечно, не могу профессионально судить о масштабе Роланда
Львовича, потому что только понаслышке знаю о его математических
результатах. Но человек непрерывен, и если он незауряден, то его
незаурядность должна одинаково проявляться во всем, что он делает.
Я ощутил масштаб Роланда Львовича в деле, которое близко касалось
меня, а потом и той лингво-математической группы, которая сейчас
известна под названием Лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ
РАН. История эта началась в 1972 году, когда я не прошел очередной
переаттестации в Институте русского языка АН СССР и стал искать
работу. Роланд Львович был одним из первых, кто предложил мне
помощь. По тому, что и как он сделал, я понял, что имею дело с
человеком, не довольствующимся простой галочкой для своего списка
добрых дел. Пустые демонстрации Роланда Львовича не интересовали.
Он ясно формулировал цель и конечный результат и сразу начинал
действовать. Его доброта была активной – она воплощалась не в
сочувствии, а в деле. Он договорился со своим директором В. И.
Сифоровым о моем переходе в его, Добрушина, лабораторию в ИППИ.
Шаг нетривиальный, если учесть, что он приглашал в математическую
лабораторию лингвиста, к тому же non grata, и что это решение ему
пришлось бы отстаивать на бюрократических уровнях АН. Правда, я к
тому времени нашел работу вне Академии – в знаменитом в те годы
отраслевом институте "Информэлектро", и необходимость в этом
варианте отпала. В "Информэлектро", которым тогда руководил С. Г.
Малинин (это был умный и мужественный человек, не боявшийся
принимать на работу людей с сомнительной биографией), мне
постепенно удалось собрать группу лингвистов и математиков,
создание которой я и по сей день считаю одним из главным дел своей
жизни. Однако к концу 70-х годов я понял, что в отраслевом
институте нам не удержаться (С. Г. Малинина к этому времени с
работы сняли) и стал искать пути перехода в Академию. В этом деле
нам очень помог покойный А. П. Ершов, в течение многих лет
дипломатично и эффективно защищавший нас от посягательств
начальства всех уровней. В критический момент ему удалось
заручиться поддержкой Е. П. Велихова, который выделил для нас
необходимые ставки. Но надо было еще найти в Академии институт и
лабораторию, которые были бы готовы нас принять. Эту задачу
никогда не удалось бы решить без энергии, ума и бесконечной доброй
воли Роланда Львовича, который предложил нам войти в его
Лабораторию и предпринял очень большие усилия для того, чтобы
пробить это решение наверху. Наш переход состоялся в октябре 1985
года. Я должен сказать, что как-то необыкновенно легко и сама
собой решилась еще одна серьезнейшая психологическая проблема –
проблема адаптации. В его коллективе нас приняли как братьев.
Лаборатория (в отличие от института) всегда носит чекан личности
ее создателя, и в Лаборатории Роланда Львовича не было людей
мелких и завистливых.
Конец 80-х годов в Академии Наук был отмечен мощным подъемом
демократического движения, в котором Роланд Львович не просто
участвовал. Он, наряду с другими деятельными людьми, его
формировал. Оказалось, может быть, несколько неожиданно для
некоторых, что у Р. Л. есть не только научные, но и общественные
интересы и и цели и, что гораздо важнее, воля к их реализации.
Обнаружилась и еще одна замечательная вещь – Роланд Львович
пользовался в Институте внешне как будто незаметным, но абсолютно
непререкаемым моральным авторитетом, который сделал именно его
неформальным лидером научного коллектива. Он был избран
председателем Совета трудового коллектива в ту пору, когда эти
советы играли реальную роль в жизни институтов, неизменно
делегировался на общие собрания Академии, когда ее доперестроечное
руководство не слишком охотно внимала голосу демократической
общественности, и сделал много для того, чтобы вопреки желаниям
этого руководства в первый свободно избранный Верховный Совет СССР
прошли достойные люди.
Мне в жизни повезло – она свела меня со многими замечательными
людьми. Один из самых замечательных и благодарно вспоминаемых –
Роланд Львович Добрушин.
|