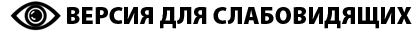История института >> Р.Л. Добрушин >> С.Г. Гиндикин
Моим новым знакомым на Западе трудно объяснить, как мы могли чувствовать себя счастливыми в условиях тоталитарного государства, при почти полной изоляции от внешнего мира, отсутствии элементарных свобод, ограничений в доступе ко многим видам информации. Наше поколение жило в относительно либеральное время, когда вероятность ареста была не высока, было возможно найти себя в активной профессиональной жизни (например, в математике), участвовать в интересных культурных событиях. В этой жизни было особенно важно иметь хороших друзей. Мы часто встречались, ходили в походы, бесконечно говорили у костра, обменивались редкой литературой (подчас запрещенной). Как я понимаю теперь, у нас была еще сверхзадача: не дать системе сломить нас. Ее успешное решение объединяло нас и давало ощущение счастья. Это счастье той же породы, что и счастье на войне.
Юлик Добрушин был моим другом в течении более 30 лет. Мы никогда не имели серьезных математических контактов и лишь изредка говорили о математике (помню, что я объяснял ему как-то риманову кривизну). Юлик был очень важен для меня во многие моменты моей жизни, но эти воспоминания носят личный характер. Здесь, вероятно, уместно вспомнить о некоторых иных штрихах его необычной личности.
Все было непросто с ним. Взять хотя бы его почти демонстративную неуклюжесть. Я неоднократно наблюдал в походах, что если ему надо было пройти скалистый участок, он мог это сделать. Для Юлика важно было не делать некоторых вещей, которые он не любил, но которые по обычным стандартам делать необходимо. Он любил ходить в походы достаточно серьезные, но не готов был укладывать рюкзак по правилам, есть походную еду (походы превращались для него в курс лечебного голодания), научиться, как правильно ставить палатку. У него была замечательная интуиция, насколько можно выйти за пределы канонического поведения. Юлик очень любил притчу о том, что орангутанги – это люди, которые отказываются говорить, чтобы их не заставили работать.
Мы много спорили о политике, о судьбе страны. Я должен признаться, что лишь много позже я оценил глубину некоторых наблюдений и предсказаний Юлика. Вот один пример. Где-то в середине 60-ых он предсказал, что через некоторое время национальный вопрос в СССР станет центральным и появятся центробежные тенденции (я помню, что это было сказано во время похода в долину реки Яхромы, но не могу вычислить год). Это казалось совершенно парадоксальным, и я знаю немного таких сбывшихся предсказаний о будущем советской власти.
Юлик был почти профессиональным советчиком, спект людей, прибегавших к его советам, был необычайно широк: от диссидентов до академических чиновников. Я уверен, что, как правило, его советы были нетривиальны. Часто он пользовался адаптированной технологией ребе, давая совет в виде афоризма. Наиболее удачные афоризмы он любил не без гордости перерассказывать. Одному нашему приятелю, которому предложили заманчивую работу, но которая могла обернуться слишком тесным взаимодействием с советской властью, Юлик сказал, что "можно быть на 10% порядочнее окружающих, но нельзя быть на 100%".
Афоризмы были страстью Юлика, особенно те, которые конденсированно выражали разные стороны советской жизни. Он черпал их из разговоров с самыми разными людьми, привозил из походов. Из одного Среднеазиатского похода он привез слова жителя кишлака: "Жаль, что вы не познакомились с нашим мулой – культурнейший человек, майор КГБ". Афоризмы принимались в подарок. Вспоминаю, что он оценил такой дар: слова официантки из санатория для деятелей международного рабочего движения, в котором в силу некоторых обстоятельств проходила конференция по математической физике: "У нас отдыхают такие выдающиеся люди, что некоторые даже отдыхают без ограничения питания".
Интерес Юлика к информации был удивителен и появился задолго до того, как он стал заниматься теорией информации. Он рассказывал, что мальчиком он решил прочесть всю Большую Советскую Энциклопедию, чтобы получить полную информацию обо всем. Он успешно прочел том на букву "А". В дальнейшем он несколько сфокусировал свои интересы, но широта их потрясает. Количество газет, которое он выписывал (и читал!) производило неизгладимое впечатленгие не только на окружающих, но и на членов выездных комиссий райкома партии (проверявших политическую благонадежность лиц, собирающихся заграницу). С точки зрения обычного человека все советские газеты были неразличимы, но Юлик находил что-то интересное, например, в газете "Водный транспорт". Справочники, особенно железнодорожные, были его любимым чтением. Он любил загадку: "Какие станции в железнодорожном справочнике отмечены звездочкой ?" Ответ: "Те, возле которых нет населенных пунктов, а поэтому запрещена высадка безбилетных пассажиров". Его географические познания были неоценимы в походах при решении транспортных проблем.
Мы дожили до свобод, о которых не могли и мечтать. Помню, как Юлик радовался первым зарубежным поездкам, с каким интересом он узнавал новый мир. В моей первой поездке на Запад я встретил его в Уэльсе, в Суанси. Мы много гуляли по побережью. Юлику нравилисьь уэльские домики, сильное впечатление на него произвела обстановка в пабах (больше, чем пиво).
Наша жизнь драматически изменилась. Нас разбросало по свету. Я редко вижусь с друзьями. Что-то существенное ушло из нашей жизни. Простое объяснение заключается в том, что перестройка для нашего поколения пришлась на время, когда прошла молодость, но я думаю, что это не объянняет всего.
|